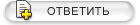анекдот инсайд :)
анекдот инсайд :)
Создана: 18 Января 2016 Пон 0:17:05.
Раздел: "Юмор"
Сообщений в теме: 6752 (+17), просмотров: 2524741
-
-
Ученик приходит из школы
-Мама, мама, в честь очередной годовщины нашей революции достоинства мы всем классом мерились своими достоинствами, у меня оказалось самое большое, это потому что я щирый украинец???
Нет сынко, это потому шо ты дебил, пятый год сидишь в первом классе... -
Стюардесса:
- Ну чё орёте?! Просто воздушная яма! Успокоились все! Отпусти кресло! Отпусти!
Всё кончилось, все нормально! Сядь! Дыши глубже... А стобой что???
- Обосрался!!!
- Ну, бывает. Щас штаны найдём тебе другие. Всё! Успокоились? Молодцы...
Пойду к пассажирам схожу... -
Признаюсь, запостив анекдот про достоинства, я не понял выражения "щирый украинец". Для порядка прошёлся по сети интернет и получил ещё один анекдот. Ну или историю:
Щирый украинец в описании А.С. Макаренко. Из "Педагогической поэмы"
(текст довольно большой, поэтому под спойлером)
"Дерюченко (воспитатель колонии) был ясен, как телеграфный столб: это был петлюровец. Он «не знал» русского языка, украсил все помещение колонии дешевыми портретами Шевченко, и немедленно приступил к единственному делу, на которое был способен – к пению "украинскьких писэнь"...
Дерюченко был еще молод. Его лицо было закручено на манер небывалого запорожского валета: усы закручены, шевелюра закручена, и закручен галстук-стричка вокруг воротника украинской вышитой сорочки. Этому человеку все же приходилось проделывать дела, конщунственно безразличные к украинской державности: дежурить по колонии, заходить в свинарню, отмечать прибытие на работу сводных отрядов, а в дни рабочих дежурств работать с колонистами. Это была для него бессмысленная и ненужная работа, а вся колония – совершенно бесполезное явление, не имеющее никакого отношения к мировой идее...
Дерюченко вдруг заговорил по-русски. Это противоестественное событие было связано с целым рядом неприятных происшествий в дерюченковском гнезде. Началось с того, что жена Дерюченко, – к слову сказать, существо, абсолютно безразличное к украинской идее, – собралась родить. Как ни сильно взволновали Дерюченко перспективы развития славного казацкого рода, они еще не способны были выбить его из седла. На чистом украинском языке он потребовал у Братченко лошадей для поездки к акушерке. Братченко не отказал себе в удовольствии высказать несколько сентенций, осуждающих как рождение молодого Дерюченко, не предусмотренное транспортным планом колонии, так и приглашение акушерки из города, ибо, по мнению Антона, «один черт – что с акушеркой, что без акушерки».
Все-таки лошадей он Дерюченко дал. На другой же день обнаружилось, что роженицу нужно везти в город. Антон так расстроился, что потерял представление о действительности и даже сказал:
– Не дам!
Но и я, и Шере, и вся общественность колонии столь сурово и энергично осудили поведение Братченко, что лошадей пришлось дать. Дерюченко выслушал разглагольствования Антона терпеливо и уговаривал его, сохраняя прежнюю сочность и великодушие выражений:
– Позаяк ця справа вымагаэ дужэ швыдкого выришення, нэ можна гаяти часу, шановный товарыщу Братченко.
Антон орудовал математическими данными и был уверен в их особой убедительности:
– За акушеркой пару лошадей гоняли? Гоняли. Акушерку отвозили в город, тоже пару лошадей? По-вашему, лошадям очень интересно, кто там родит?
– Але ж, товарищу…
– Вот вам и «але»! А вы подумайте, что будет, если все начнут такие безобразия!..
В знак протеста Антон запрягал по родильным делам самых нелюбимых и нерысистых лошадей, обьявлял фаэтон испорченным и подавал шарабан, на козлы усаживал Сороку – явный признак того, что выезд не парадный.
Но до настоящего белого каления Антон дошел тогда, когда Дерюченко потребовал лошадей ехать за роженицей. Он, впрочем, не был счастливым отцом: его первенец, названный поспешно Тарасом, прожил в родильном доме только одну неделю и скончался, ничего существенного не прибавив к истории казацкого рода. Дерюченко носил на физиономии вполне уместный траур и говорил несколько расслаблено, но его горе все же не пахло ничем особенно трагическим, и Дерюченко упорно продолжал выражаться на украинском языке. Зато Братченко от возмущения и бессильного гнева не находил слов ни на каком языке, и из его уст вылетали только малопонятные отрывки:
– Даром все равно гоняли! Извозчика… спешить некуда… можно гаяты час. Все родить будут… И все без толку…
Дерюченко возвратил в свое гнездо незадачливую родильницу, и страдания Братченко надолго прекратились.
В этой печальной истории Братченко больше не принимал участия, но история на этом не окончилась.
Тараса Дерюченко еще не было на свете, когда в историю случайно зацепилась посторонняя тема, которая, однако, в дальнейшем оказалась отнюдь не посторонней. Тема эта для Дерюченко была тоже страдательной. Заключалась она в следующем.
Воспитатели и весь персонал колонии получали пищевое довольствие из общего котла колонистов в горячем виде. Но с некоторого времени, идя навстречу особенностям семейного быта и желая немного разгрузить кухню, я разрешил Калине Ивановичу выдавать кое-кому продукты в сухом виде. Так получал пищевое довольствие и Дерюченко. Как-то я достал в городе самое минимальное количество коровьего масла. Его было так мало, что хватило только на несколько дней для котла. Конечно, никому и в голову не приходило, что это масло можно включить в сухой паек, но Дерюченко очень забеспокоился, узнав, что в котле колонистов уже в течение трех дней плавает драгоценный продукт. Он поспешил перестроиться и подал заявление, что будет пользоваться общим котлом, а сухого пайка получать не желает. К несчастью, к моменту такой перестройки весь запас коровьего масла в кладовой Калины Ивановича был исчерпан, и это дало основание Дерюченко прибежать ко мне с горячим протестом:
– Не можно знущатися над людьми! Дэ ж те масло?
– Масло? Масла уже нет, сьели.
Дерюченко написал заявление, что он и его семья будут получать продукты в сухом виде. Пожалуйста! Но через два дня снова привез Калина Иванович масло, и снова в таком же малом количестве. Дерюченко с зубовным скрежетом перенес и это горе, и даже на котел не перешел.
Но что-то случилось в нашем наробразе, намечался какой-то затяжной процесс периодического вкрапления масла в организмы деятелей народного образования и воспитанников. Калина Иванович то и дело, приезжая из города, доставал из-под сиденья небольшой «глечик», прикрытый сверху чистеньким куском марли. Дошло до того, что Калина Иванович без этого «глечика» уже в город и не ездил. Чаще всего, разумеется, бывало, что «глечик» обратно приезжал ничем не прикрытый, и Калина Иванович небрежно перебрасывал его в соломе на дне шарабана и говорил:
– Такой бессознательный народ! Ну и дай же человеку, чтобы было на что глянуть. Что ж вы даете, паразиты: чи его нюхать, чи его исты?
Но все же Дерюченко не выдержал: снова перешел на котел. Однако этот человек не способен был наблюдать жизнь в ее динамике, он не обратил внимания на то, что кривая жиров в колонии неуклонно повышается, обладая же слабым политическим развитием, не знал, что количество на известной степени должно перейти в качество. Этот переход неожиданно обрушился на голову его фамилии. Масло мы вдруг стали получать в таком обилии, что я нашел возможным за истекшие полмесяца выдать его в составе сухого пайка. Жены, бабушки, старшие дочки, тещи и другие персонажи второстепенного значения потащили из кладовой Калины Ивановича в свои квартиры золотистые кубики, вознаграждая себя за долговременное терпение, а Дерюченко не потащил: он неосмотрительно сьел причитающиеся ему жиры в неуловимом и непритязательном оформлении колонистского котла. Дерюченко даже побледнел от тоски и упорной неудачи.
В полной растерянности он написал заявление о желании получать пищевое довольствие в сухом виде. Его горе было глубоко, и он вызывал всеобщее сочувствие, но и в этом горе он держался как казак и как мужчина, и не бросил родного украинского языка.
В этот момент тема жиров хронологически совпала с неудавшейся попыткой продолжить род Дерюченко.
Дерюченко с женой терпеливо дожевывали горестные воспоминания о Тарасе, когда судьба решила восстановить равновесие и принесла Дерюченко давно заслуженную радость: в приказе по колонии было отдано распоряжение выдать сухой паек «за истекшие полмесяца», и в составе сухого пайка было показано снова коровье масло.
Счастливый Дерюченко пришел к Калине Ивановичу с кошелкой. Светило солнце, и все живое радовалось. Но это продолжалось недолго. Уже через полчаса Дерюченко прибежал ко мне, расстроенный и оскорбленный до глубины души. Удары судьбы по его крепкой голове сделались уже нестерпимыми, человек сошел с рельсов и колотил колесами по шпалам на чистом русском языке:
– Почему не выданы жиры на моего сына?
– На какого сына? – спросил я удивленно.
– На Тараса. Как «на какого»? Это самоуправство, товарищ заведующий! Полагается выдавать паек на всех членов семьи, и выдавайте.
– Но у вас же нет никакого сына Тараса.
– Это не ваше дело, есть или нет. Я вам представил удостоверение, что мой сын Тарас родился второго июня, а умер десятого июня, значит, и выдавайте ему жиры за восемь дней…
Калина Иванович, специально пришедший наблюдать за тяжбой, взял осторожно Дерюченко за локоть:
– Товарищ Дерюченко, какой же адиот такого маленького ребенка кормит маслом? Вы сообразите, разве ребенок может выдержать такую пищу?
Я дико посмотрел на обоих.
– Калина Иванович, что это вы сегодня!.. Этот маленький ребенок умер три недели назад…
– Ах, да, так он же помер? Так чего ж вам нужно? Ему теперь масло, все равно как покойнику кадило, поможет. Да он же и есть покойник, если можно так выразиться.
Дерюченко, злой, вертелся по комнате и рубил ладонью воздух:
– В моем семействе в течение восьми дней был равноправный член, а вы должны выдать.
Калина Иванович, с трудом подавляя улыбку, доказывал:
– Какой же он равноправный? Это ж только по теории равноправный, а прахтически в нем же ничего нет: чи он был на свете, чи его не было, одна видимость.
Но Дерюченко сошел с рельсов, и дальнейшее его движение было беспорядочным и безобразным. Он потерял всякие выражения стиля, и даже все специальные признаки его существа как-то раскрутились и повисли: и усы, и шевелюра, и галстук. В таком виде он докатился до завгубнаробразом и произвел на него нежелательное впечатление. Завгубнаробразом вызвал меня и сказал:
– Приходил ко мне ваш воспитатель с жалобой. Знаете что? Надо таких гнать. Как вы можете держать в колонии такого невыносимого шкурника? Он мне такую чушь молол: какой-то Тарас, масло, черт знает что!
– А ведь назначили его вы.
– Не может быть… Гоните немедленно!"
[внешняя ссылка]
-
Сидят рыбаки в лодках. Рыбачат. Ну как рыбачат - ни у кого не клюёт кроме одного. Наконец один не выдерживает:
- Чё за х-ня, ни у кого не клюёт, ты, мля, один ловишь?
- Я золотую рыбку поймал.
- Чё ты звиздишь!
- Подожди, - говорит другой, - ну поймал и чё попросил у нее?
- Ну вот чтобы рыба всегда ловилась.
- А ещё чё?
- Ну чтобы бабло само в бумажнике появлялось.
- А вот докажи. Ну докажи ...
Берет лопатник, вынимает все деньги и ложит на дно лодки. Закрывает, открывает, а там снова бабло.
- Ууу, блииин. А чё ещё попросил?
- Чтобы с женой одновременно кончали.
- Во молодец! Все желания четкие. А чё тогда такой кислый сидишь?
- Вот сижу тут в лодке и за последний час третий раз кончаю -
Работал у нас Вася. Слесарь. Всем из себя хорош-пригож, но вот только украинец по паспорту. Что сильно напрягало шефа. Часто он звал Васю и дискриминировал его по национальному признаку.
-Вася! Если сюда припрутся ФМС, то ты что должен сказать, будучи застигнутым flagrante delicto?
-Че?
-За жопу взятым, проще говоря. Что ты им скажешь?
-А?
-Уйна! Вася! Ты скажешь, что работаешь вот у них (шеф назвал нелюбимых нами соседей, что часто таскали у нас клиентов из-под носа), а к нам зашел чисто по-соседски.
-Не.
-Что не?!- бесился шеф. Ты хочешь, что бы за твою самостийность меня тут раком поставили? Ты знаешь, какой за тебя штраф?! Мне ж не отбить затрат, тебя на органы продав! Ты тогда не пей что ли. Больше выручу.
-А.
-Уйна! И вообще-когда ты уже натурализуешься, в натуре?
-Че?
-Глядь! Когда ты паспорт местный получишь?!
-А. Не знаю. Обещают все.
-Все! Задолбал! Короче! Месяц тебе сроку! Нет паспорта-вот тебе жена! (Шеф указал на меня). Я уронила ручку на пол. Вася оценивающе поглядел на мой зад, торчащий из-под стола.
-Э.
-Понял?
-Ааааа меня никто спросить тут не хочет?-проблеяла я из угла.
-200 000!
-Кому?! -хором заорали мы с Васей.
-Тебе! -шеф пальцем ткнул в мою сторону. До калыма я еще не дорос. Вася, короче. Ей 200000. Отдашь в три месяца, не оголодаешь. Понял?
-А че так дорого! Да она худая! И базарит много не по делу!
-Вася! Не серди меня! Я тебе Родину продаю, а ты оскорбляешь мой слух своими меркантильными воплями.Не убивай во мне веру в человечность!
Дальше они лаялись полчаса, причем Вася всячески поносил товар (меня), сбивая цену, а шеф -расхваливал. Я тупо таращилась на этих торгашей. Чувства-непередаваемые. Много нового о себе узнала. Шея чесалась под веревкой, саднили сбитые кандалами ноги. Под помостом шумел невольничий рынок.
Сошлись на 150000р. Вот, значит, сколько я стою. Полезная информация.
Купцы ударили по рукам, Вася хозяйским взглядом окинул приобретение и пошел в ремзону зарабатывать калым.
Я, просватанная, начала медленно звереть. СуМка-шеф делал вид, что что то важное увидел в мониторе.
-Щая я ему! Ща такое скажу! -ярость благородная вскипала, как волна.
-Я маме расскажу! -завизжала я в итоге. Н-да. Все что смогла.
-Она в курсе.
-ЧТО?!
Моя маменька! Продала дочу?! Слесарю?!
В башке почему то вертелась идиотская фраза ; "Отдай кесарю-кесарево, а слесарю-слесарево"
-Чего ты кобылишься? У вас товар, у нас купец! Поживете годик, не понравится-разведетесь!-глумился начальник. Вася вон парень хоть куда. Породу улучшишь. А то загниваешь в пятом поколении, ителихенция, понимаешь…А вдруг понравится? Совет, да любовь! Детей фиктивных нарожаете. А что? Котят распихали и ваш приплод тоже.
-Я сейчас кого-то убью!
-Настя, уймись! Поженитесь фиктивно, Васька в полгода гражданство получит и свободна! 100 кусков на дороге не валяются! .
-Почему 100?!
-50 мне. За идею.
-ССсссссссссс!
-Шучу! Хотя всю жизнь хотел быть Себастьяном Перейрой.
-Кем?
-Торговцем черным деревом. Все, иди работай, дерево.
-ШТА!
Месяц меня доставали подколами. Вася хреново смонтировал мне глушитель, так его все корили.
-Как не стыдно, Вася! Жене! Она те в борщ наплюет!
Вася за месяц таки получил гражданство. То ли жаба его задушила, то ли я непривлекательная. Так я и осталась холостая-неженатая. А Вася уволился. Впрочем, это уже другая история. -
Эмансипация, это с сайта противников адекватности и защитников животных.
Меня улыбнуло.
В средней группе детского сада к сентябрьскому утреннику меня готовил дедушка. Темой праздника были звери и птицы: как они встречают осень и готовятся к зиме. Стихотворений, насколько мне помнится, нам не раздавали, а если и раздали, дедушка отверг предложения воспитательниц и сказал, что читать мы будем своё.
Этим своим он выбрал выдающееся, без дураков, произведение Николая Олейникова "Таракан".
Мне сложно сказать, что им руководило. Сам дедушка никогда садик не посещал, так что мстить ему было не за что. Воспитательницы мои были чудесные добрые женщины. Не знаю. Возможно, он хотел внести ноту высокой трагедии в обыденное мельтешение белочек и скворцов.
Так что погожим осенним утром я вышла на середину зала, одернула платье, расшитое листьями из бархатной бумаги, обвела взглядом зрителей и проникновенно начала:
– Таракан сидит в стакане,
Ножку рыжую сосёт.
Он попался. Он в капкане.
И теперь он казни ждёт.
В "Театре" Моэма первые уроки актерского мастерства Джулии давала тётушка. У меня вместо тётушки был дед. Мы отработали всё: паузы, жесты, правильное дыхание.
– Таракан к стеклу прижался
И глядит, едва дыша.
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.
Постепенно голос мой окреп и набрал силу. Я приближалась к самому грозному моменту:
– Он печальными глазами
На диван бросает взгляд,
Где с ножами, топорами
Вивисекторы сидят.
Дед меня не видел, но он мог бы мной гордиться. Я декламировала с глубоким чувством. И то, что на "вивисекторах" лица воспитательниц и мам начали меняться, объяснила для себя воздействием поэзии и своего таланта.
– Вот палач к нему подходит, – пылко воскликнула я. – И ощупав ему грудь, он под рёбрами находит то, что следует проткнуть!
Героя безжалостно убивают. Сто четыре инструмента рвут на части пациента! (тут голос у меня дрогнул). От увечий и от ран помирает таракан.
В этом месте накал драматизма достиг пика. Когда позже я читала в школе Лермонтова "На смерть поэта", оказалось, что весь полагающийся спектр эмоций, от гнева до горя, был мною пережит еще в пять лет.
– Всё в прошедшем, – обречённо вздохнула я, – боль, невзгоды. Нету больше ничего. И подпочвенные воды вытекают из него.
Тут я сделала долгую паузу. Лица взрослых озарились надеждой: видимо, они решили, что я закончила. Ха! А трагедия осиротевшего ребёнка?
– Там, в щели большого шкапа,
Всеми кинутый, один,
Сын лепечет: "Папа, папа!"
Бедный сын!
Выкрикнуть последние слова. Посмотреть вверх. Помолчать, переводя дыхание.
Зал потрясённо молчал вместе со мной.
Но и это был ещё не конец.
– И стоит над ним лохматый вивисектор удалой, – с мрачной ненавистью сказала я. – Безобразный, волосатый, со щипцами и пилой.
Кто-то из слабых духом детей зарыдал.
– Ты, подлец, носящий брюки! – выкрикнула я в лицо чьему-то папе. – Знай, что мертвый таракан – это мученик науки! А не просто таракан.
Папа издал странный горловой звук, который мне не удалось истолковать. Но это было и несущественно. Бурными волнами поэзии меня несло к финалу.
– Сторож грубою рукою
Из окна его швырнёт.
И во двор вниз головою
Наш голубчик упадёт.
Пауза. Пауза. Пауза. За окном ещё желтел каштан, бегала по крыше веранды какая-то пичужка, но всё было кончено.
– На затоптанной дорожке, – скорбно сказала я, – возле самого крыльца будет он задравши ножки ждать печального конца.
Бессильно уронить руки. Ссутулиться. Выглядеть человеком, утратившим смысл жизни. И отчетливо, сдерживая рыдания, выговорить последние четыре строки:
– Его косточки сухие
Будет дождик поливать,
Его глазки голубые
Будет курица клевать.
Тишина. Кто-то всхлипнул – возможно, я сама. С моего подола отвалился бархатный лист, упал, кружась, на пол, нарушив шелестом гнетущее безмолвие, и вот тогда, наконец, где-то глубоко в подвале бурно, отчаянно, в полный рост зааплодировали тараканы.
На самом деле, конечно, нет. И тараканов-то у нас не было, и лист с меня не отваливался. Мне очень осторожно похлопали, видимо, опасаясь вызвать вспышку биса, увели плачущих детей, похлопали по щекам потерявших сознание, дали воды обмякшей воспитательнице младшей группы и вручили мне какую-то смехотворно детскую книжку вроде рассказов Бианки.
– Почему? – гневно спросила вечером бабушка у деда. Гнев был вызван в том числе тем, что в своем возмущении она оказалась одинока. От моих родителей ждать понимания не приходилось: папа хохотал, а мама сказала, что она ненавидит утренники и я могла бы читать там даже "Майн Кампф", хуже бы не стало. – Почему ты выучил с ребёнком именно это стихотворение?
– Потому что "Жука-антисемита" в одно лицо декламировать неудобно, – с искренним сожалением сказал дедушка.
-
Амонлюза писал
 : а правда, что глаза голубые у такраканов?
: а правда, что глаза голубые у такраканов?
Мало их осталось, голубоглазиков, кур больше...
— Да Хиллари вообще замечательный человек! К тому же, выдающийся политик, замечательная мать, интеллектуал!... Да что там говорить – мы с ней один уйх сосали!
— Спасибо, Моника. Я думаю, достаточно -
[внешняя ссылка]
Путин поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока
коммент:
Андрей Глебов
10 декабря, 19:07
А лучше - построить новый в чистом поле. Где-то в Уральских горах. -
Моеимязанято писал
 : - А что, мать, белые в городе есть?
: - А что, мать, белые в городе есть?
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.